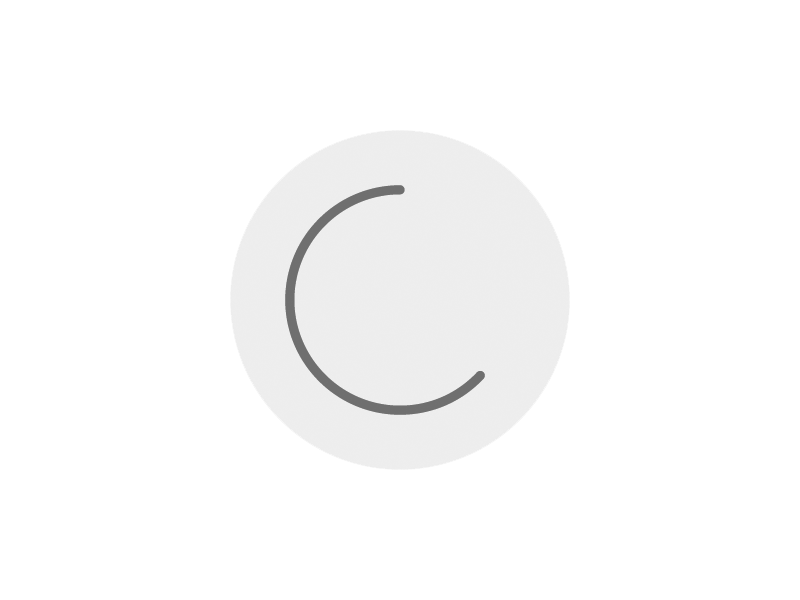Мечислав Браун
Пять лет назад Мечислав Браун печатался в органе футуристов «Альманах нового искусства»; там была издана, между прочим, его «Ода Свободе», еще совсем юное произведение. С тех пор Браун успел издать три тома стихов, в которых он, по существу, ничего общего с футуристами не имеет; это — «Ремесло» (1926), «Промышленность» (1928) и «Дубовый лист» (1929). Тут он выступил как поэт революционно-о6щественного направления, хотя к соответствующей группе его причислить нельзя. Темы его стихов взяты из трудовой жизни рабочих; направление его — пролетарское. Поэзия труда имеет в польской литературе многолетнюю давность, так как соответствующие темы интересовали еще представителей «Молодой Польши»; это была реакция против мелкомещанских настроений конца прошлого века. Темы подобного рода замерли впоследствии; их в поэзии никто серьезно не подымал до второй половины нашего десятилетия. Поэтому поэзия Мечислава Брауна должна вызвать к себе интерес. Принадлежит он по возрасту к послевоенным поколениям поэтов (род. в 1902 г.), по месту рождения — к фабричному району (Лодзь). Сама жизнь наталкивала его на темы знакомого, окружавшего его быта, и нет ничего удивительного, что в своем «Ремесле» он дает сразу же целый ряд стихов о труде: «Сапожник», «Портной», «Маляр», «Часовщик», «Столяр», «Кузнец», «Пекарь» (невольно вспоминаются такого же рода «портреты», но на сельские бескидские темы Эмиля Зегадловича). Однако дело в том, что Браун в тематике срывается в область отвлеченную и пишет своих «Леонардо», «Магомета», «О Мицкевиче», «Чистилище», «Готаму», «Марию». Та же невыдержанность — и во втором сборнике: «Дровосеки», «О рождении хлеба», «О постройке дома», «Верхняя Силезия», «Фабричная Лодзь» и рядом «Дума о Словацком», «О Мицкевиче», «Петр» (Великий — отражение Пушкина). В третьей книге преобладают темы отвлеченного характера, вплоть до «Пантеизма» и «Бога». Таким образом, на первый взгляд талант поэта «не отстоялся», он бродит, как молодое вино. Что касается самой манеры письма, формы, языка, то Браун, революционизируя содержание, хотел, по-видимому, отбросить все, к чему стремились послевоенные польские поэты, не вполне ясно разобравшись в том, что может пригодиться, а что — нет. Поэтому его манера — чисто описательная. Он признает внешность мира, нагромождая один образ на другой, стремясь во что бы то ни стало и какой угодно ценой сделать свою поэзию вещественной. Отклики на Мицкевича, Данте, Пушкина оказываются поэтому необоснованными. А с пролетариатом и рабочим классом внутренне у него почти ничего общего нет. Быть может, эти черты служат залогом «лучшего будущего» для Брауна, но они никак не позволяют судить о том, что поэзия его пережита им самим. Он скользит по важным, насущным темам, он произносит слова, напоенные кровью и потом, а вместе с тем не взволнует и не заставит другого чувствовать так, как чувствует, может быть, он сам. Из «реалиста» Браун пожелал стать «сюрреалистом» и «пантеистом». И реализм жестоко мстит ему покамест. Областные темы первой книги, быть может, наиболее подходят по стилю к вырабатывавшейся им вначале манере письма. Как проявление революционных настроений, как смелая попытка создать областную рабочую поэзию, не отказываясь от других тем и не порывая с прошлым вплоть до Словацкого и Данте (значит, вплоть до мистицизма), творчество Мечислава Брауна имеет значение и заслуживает к себе внимания.